Набирает обороты баталия вокруг назначения языкового омбудсмена. Противостоят, как уже не раз бывало, власть и гражданское общество. Казалось бы, этот вопрос в дни войны не относится к самым важным. Но почему тогда украинское общество отнеслось к его решению с такой серьезностью? А дело в том, что на самом деле проблема не такая простая и незначительная, как кому-то может показаться. И от лица Уполномоченного по защите государственного языка многое зависит не просто в какой-то там периферийной сфере общественной жизни — речь идет об одной из основ государственно-национальных практик.
Еще в советское время, а именно в 1970-х годах, советские этнологи Сергей Арутюнов и Николай Чебоксаров сформулировали очень интересную информационную концепцию этнонациональных сообществ. Эта теория, заимствованная учеными у других стран, действует во всем мире и сейчас. Например, ее использует в своей деятельности польский ученый Славой Шинкевич и другие. Вместе с тем, хотя авторы и снабдили ее обязательными атрибутами, необходимыми с точки зрения «коммунистически-социалистической» цензуры и официоза, теория получилась для советских порядков довольно-таки крамольной. В частности, она дает возможность взглянуть на информационную сферу под непривычным углом. Так, упомянутая концепция доказывает, что все этнонациональные сообщества — племена, народности и нации (известная советская триада) — на практике создаются сетями информационных коммуникаций. И если в первобытные времена такие сети возникали на базе устного общения людей — коммуницирования от человека к человеку между современниками, а также между предками и потомками, то со временем, уже во время первых цивилизаций и в средневековье, для передачи значимой информации все чаще начали применять специализированные знаковые системы, в первую очередь — письменность. От столетия к столетию роль таких специализированных знаковых систем росла. И сейчас без Интернета, электронных и бумажных СМИ, книг для массового читателя, делопроизводства, кинематографа, телевидения и т.п. мы просто не мыслим жизни.
Так вот, Арутюнов и Чебоксаров, проанализировав соответствующие факты, установили, что каждое сообщество, чтобы быть полноценной нацией, должно обслуживать свои информационные потребности с помощью собственной сети информационных коммуникаций, к тому же единым, понятным всем ее сочленам языком. Только часть информационных потребностей членов национального сообщества может удовлетворяться силами сетей информкоммуникаций других национальных сообществ. Если же сообщество удовлетворяет большинство своих информационных потребностей средствами информкоммуникативной сети другого сообщества, то это не нация, а, как писали упомянутые ученые, народность, ассоциированная с соответствующей нацией. «Небольшие социалистические народности в РСФСР, — писал Арутюнов, — чукчи, коряки, нивхи, эвенки, ненцы и др. — ассоциированы с русской социалистической нацией». Термин «народность» сегодня в этнологии и нациелогии непопулярен, его пытаются не употреблять. Но если посмотрим на информационные сети советских времен, то четко видно, что украинцы все же удовлетворяли большинство своих информпотребностей силами общесоюзной — она же российская и русскоязычная — коммуникационной сети. Вспомним популярность и распространенность центральных (общесоюзных) газет и журналов («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Советский спорт», «Огонек», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Советская женщина» и т.п.), с которыми не могли конкурировать украинские издания, союзное телевидение — «Гостелерадио», фильмы производства «Мосфильм», миллионные тиражи книг для массового читателя, издававшиеся в «центре», и т.п. В этом плане украинцы все же не сильно отличались от упомянутых чукчей, коряков, нивхов и других малых народов Сибири, хотя советская наука всячески доказывала, что украинский народ во времена советского социализма достиг вершин национального развития в составе самого счастливого «союза нерушимого республик свободных». Ведь если какие-то там французы или немцы и были нациями, то только буржуазными, а вот украинцы уже превратились в самую прогрессивную — социалистическую нацию. И это при том, что они, как и упомянутые малые народы Севера, стремительно теряли украинский язык, национальную культуру, русифицировались и забывали собственную историю.
Вместе с тем не стоит считать, что информационная зависимость для сообщества все же является далекой от реальной жизни абстракцией. Всегда, когда соседствуют страны с разными по силе информационными сетями, более сильная из них, словно пылесос, втягивает в свою орбиту более слабое сообщество. И этому очень способствует единый язык обозначенных сетей. Неслучайно известный классик нациелогии Бенедикт Андерсон в книге «Воображаемые сообщества» заявляет, что в условиях Европы, где метрополии и колонии не разграничены широкими просторами океанов, непременным условием создания самостоятельной модерной нации является отмежевание новосоздаваемого сообщества от других собственным «печатным» языком. Примеры Жоржа Сименона — известного французского писателя, который родился, вырос, выучился и начал работать журналистом во франкоязычной Валлонии (части Бельгии), или англоязычного драматурга Бернарда Шоу, который на самом деле был ирландцем, очень красноречивы. А вспомним недавнего нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая якобы является белорусской, но россияне причисляют ее к своим деятелям.
И вот только сейчас, через 30 лет новой независимости, Украина с большим трудом, прилагая огромные усилия, отрывается от российской сети информкоммуникаций, которая до сих пор частично опутывает ее своей липкой паутиной. Именно поэтому Украине не все равно, кто будет новым языковым омбудсменом, владеет ли он необходимыми знаниями, навыками и опытом. Ведь война, которую ведет сейчас Украина, охватывает и языковую сферу. И на омбудсмена в этой информационной войне ложится очень большое бремя обязанностей, которые он непременно должен исполнять. И здесь речь не идет о личной преданности или умении кому-то нравиться. Речь идет о защите государственных интересов, об отстаивании национальной позиции.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2Fa6bd67457f12ee42dbb35963be1056b4)
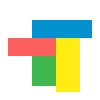
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F56bdcc1767b745fde6c32dd8d1f4e396.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F4cba1a7feea3a5e0a3baf1a79a05be77.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2F559281c1ec1293e442b03386af33fc8d.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Faad4485383012cf4ac608c5030009350.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F7ed93fcf46882d17ee9433fb088f36ff.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F68624b7458803b384c99051c4ef50198.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F17fd856426cd5c9c271929d4eb3ff70b.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F8%2F0fa75e3e96cf6deb10df7b03e1f1297f.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2F3a151464f0b4a032c9512516beb6e285.jpg)