/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2F3b6225bcd1258efd759533b0b97e11d5)
Художественная пропаганда строит мир, опираясь на интересы массового сознания
Сначала была религиозная пропаганда, откуда происходит даже само слово пропаганда. В этот период Ватикан занимался переводом людей в христианскую веру. И главным «пропагандистом» тогда был Игнатий Лойола, глава ордена иезуитов. Религиозная пропаганда делала человека адептом конкретной религии, давая ему рационально выстроенную систему перехода в прекрасное будущее. Он начинал жить в двух мирах: физическом и виртуальном.
Потом в двадцатом столетии пришла мощная политическая пропаганда, которая создала в результате два тоталитарных государства. Это удалось сделать не только с помощью «старой» пропаганды. В мир хлынул поток индустриально организованных эмоций.
Это пришел новый визуальный канал — кино. Если до этого все делалось с помощью языка вербального, то теперь коммуникации стали визуальными. Они значимы еще и тем, что не требуют ответа. Ведь кино — это чистый монолог, никто в зале не будет отвечать на монолог на экране. Тем более никто не хочет его прерывать, поскольку это развлекательный модус, к которому, наоброт, стремится сам потребитель информации. Вспомним, как довоенное время дети десятки раз смотрели, к примеру, фильм «Чапаев» в надежде, что тот не погибнет, а выплывет…
Правда, сегодня есть версии, что Чапаев вовсе не утонул, но они возможны только для тех, кто в свое время не попал под обаяние фильма. Учебники истории переписываются под фильмы, поскольку в них присутствуют более сильные версии действительности. Так случилось не только с Чапаевым, но и с Александром Невским. Даже на ордене Невского можно увидеть лицо Н. Черкасова, который сыграл его роль в одноименном фильме. Кино окончательно победило действительность. Развлекательный модус выполнил нужную политическую функцию.
Германия и СССР тоже внимательно смотрели фильмы друг друга. Гитлер и Геббельс, например, с восхищением отзывались о «Броненосце Потемкине» С. Эйзенштейна, приводя его в качестве примера силы пропаганды. У Гитлера была Лени Рифеншталь, о которой сегодня вспоминают так: «Рифеншталь по заказу партии снова снимет съезд НСДАП. «Триумф воли» только выглядел как документальный фильм, но на самом деле был тщательно отрепетирован и поставлен. Вместе с Лени на площадке работало 170 помощников, 35 операторов и 30 камер. Монтаж шел больше полугода. Впоследствии фильм был признан лучшим образцом пропагандистского кино всех времен» [1].
Кино по своему воздействию было сильнейшим из искусств, доступным даже неграмотным, чего нельзя сказать о книге или газете, поэтому его сразу полюбили диктаторы. Они даже становились диктаторами, благодаря той власти над массовым сознанием, которую им давало кино. Это характерно для Сталина и Гитлера, которые и сами любили кино. Кинофильмы были одним из строительных механизмов нового мира.
Одновременно кинорежиссеры видели и свою силу, увлекаясь ею все больше и больше. Искусство мертво без людей, а тут тоталитарные режимы предоставляли им огромные массы почитателей. И это были не согнанные почитатели, а люди, которые сами даже платили за то, чтобы увидеть очередной пропагандистский шедевр, который одновременно был и искусством.
Рифеншталь характеризуют еще так: «Скорее всего, Рифеншталь действительно не была идейной антисемиткой, но и никаких моральных барьеров у нее не существовало. Вот и в случае с фильмами про съезды нацистов сложно поверить, что ее заставили их делать. Главный аргумент здесь — творческий уровень. Столь изобретательное, оригинальное, виртуозное кино невозможно создать из-под палки. Будь оправдания Рифеншталь правдой, она бы подошла к делу формально. Но и «Триумф воли», и куда менее известная «Победа веры», предшествовавшая «Триумфу», демонстрируют страсть автора, влюбленность в тему и стремление выжать из материала максимум» [2].
Цитируется такая ее фраза из интервью 1937 года одной из американских газет: «Для меня Гитлер — самый великий человек, который когда-либо жил на Земле… Он красивый, умный, обаятельный. У всех великих мужей Германии — Фридриха Великого, Ницше, Бисмарка — были какие-то недостатки. Есть они и у соратников Гитлера. У него одного их нет» [3].
Советский принцип «Нам песня строить и жить помогает» отражает сталинский метод работы искусства на государство. Однотипно можно интерпретировать и передачи типа «Старые песни о главном», поскольку они активировали в массовом сознании не только и не столько песни, как аксиоматику прошлого общества. Точно так «буденовка» или «гимнастерка» на малыше служит своеобразным «компасом» для массового сознания. Эмоция «умиления» от ребенка автоматически переносится на военные символы.
Визуальная пропаганда (сначала кино, а потом телевидение) создали пропаганду двадцатого века, а значит полностью задали его историю. Пропагандистские потоки проникли в каждый дом и в каждый разум, форматируя его под себя. Мир стал пропагандой, а пропаганда миром. И на вершине всенародной любви стояли Сталин и Гитлер, правда, каждый в своей стране, что говорит о пропагандистских корнях этой любви. Индивидуальное сознание в этой любви участия не принимало, все были включены в сознание массовое.
Художественная реальность побеждала подлинную. Человек верит тому, что он видит на экране, а вот увиденное своими глазами он воспринимает как исключение из правил, как частный случай, тем более если его восприятие в данном случае негативно. Художественная виртуальность всегда красивее и убедительнее жизни. В принципе в произведении искусства не так легко выполнять задачи государства, поскольку зритель может почувствовать ложь. Но все равно сюжет и герои оказываются сильнее…
Советский кинематограф всегда получал четкие государственные задачи: «По воспоминаниям Всеволода Вишневского, Эйзенштейн собирался снимать фильм о деле Бейлиса, но Сталин передал через Жданова, что «темы, подрывающие самодержавие, сейчас не нужны». Вместо этого режиссеру предложили подумать над образом Ивана Грозного. Предложение отражало масштабный проект по реабилитации первого русского царя, на который были брошены лучшие силы: в марте было объявлено, что Алексей Толстой работает над пьесой, в апреле — что Эйзенштейн изучает материалы для съемок фильма, в мае — что Большой театр готовится поставить оперу про Ивана Грозного по либретто Осипа Брика. Параллельно была развернута кампания в прессе: одна за другой появлялись статьи о том, как либеральные историки, поддавшись влиянию иностранцев, неправильно трактовали период правления Грозного, который в действительности был искуснейшим дипломатом, прекрасным полководцем и всенародно любимым царем. Особое место в новой трактовке занимала Ливонская война, отныне описывавшаяся как возвращение России ее исконных земель. Она представала проекцией присоединения Прибалтики, раздела Польши и пакта Молотова—Риббентропа, а само правление Ивана Грозного служило для легитимации внешней и внутренней политики СССР 1930-х годов. На фоне этих выступлений подход Эйзенштейна к образу Ивана Грозного ничем не выделялся» [4].
Эйзенштейн не обличал, а оправдывал Сталина: «Политические аллюзии, которые впоследствии будут прочитаны как развенчание культа личности, были старательно прописаны самим Эйзенштейном, но смысл их был не в критике Сталина, а в его апологии. Именно так сценарий прочитал и сам Сталин, вернувший его с хвалебным отзывом: «Сценарий получился неплохой. Т. Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный как прогрессивная сила своего времени и опричнина как его целесообразный инструмент вышли не плохо. Следовало бы поскорее пустить в дело сценарий». Если бы фильм вышел тогда же, Эйзенштейна, очевидно, ждал бы успех, но за то время, что фильм снимался, многое изменилось» (там же).
И о второй серии: «Вопреки распространенному мнению Сталин не воспринял вторую серию «Ивана Грозного» на свой счет — в феврале 1947 года вместе с Молотовым и Ждановым он встречался с Эйзенштейном и исполнителем роли Грозного Николаем Черкасовым, чтобы обсудить перспективы переделки фильма. Из их разговора становится понятно, что в 1947 году советской власти нужен был не тот Иван Грозный, что в 1941-м. Холодная война и борьба с низкопоклонством сместили приоритеты, и Сталина в Грозном теперь гораздо больше интересовало то, что, в отличие от Петра I, он «не впускал иностранное влияние в Россию». В сталинскую эпоху у исторического кино была сложная функция — на историческом материале оно должно было говорить о современности, транслировать миру советский взгляд на актуальные события. Сам по себе этот прием не был советским изобретением: история часто использовалась для разговора о настоящем там, где прямое высказывание было невозможно в силу политических причин (так, например, Александр Корда использовал в «Леди Гамильтон» адмирала Нельсона и войну с Наполеоном, чтобы донести до американцев необходимость поддержать Британию в ее противостоянии Гитлеру). Но в сталинскую эпоху этот прием был доведен до предела, история выступала здесь не как пространство аналогий, а как официальный язык для разговора о политике, и чем быстрее сменялись обстоятельства, тем сложнее кино было за ними успеть. Вторая серия «Ивана Грозного» опоздала в 1946 году, но предложенная в ней историческая проекция обрела новую актуальность спустя десять лет: фильм, который Эйзенштейн задумывал как рассказ о Большом терроре, оправдывающий Сталина, оказался его идеальным обличением» (там же).
Пропаганда напрямую разговаривает с массовым сознанием, а к пропаганде, спрятанной в развлекательном модусе, граждане даже тянутся сами. Люди финансируют кино сами, давая значительные суммы в бюджет страны-пропагандиста. К тому же, пропаганда дает ответы на все вопросы, которые возникают в массовом сознании. Вопрос может быть еще не готов, зато ответ на него есть.
Искусство моментально откликнулось на любовь диктаторов, причем достаточно качественным продуктом. Когда гениальные люди делают даже пропаганду, они все равно делают это качественно. Кино фиксирует то, что не должно пройти мимо массового сознания, которое в принципе является очень обучаемым.
Раздел сфер влияния между СССР и Германией был ознаменован поддержкой искусства: «В советско-германских отношениях наступает период «дружбы, скрепленной кровью», как выразился Сталин. Пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией от 23 августа 1939 года, за которым последовал раздел Польши в соответствии с прилагавшимся к нему секретным протоколом, а затем Договор о дружбе и границе от 28 сентября, закрепивший этот раздел, стали громом среди ясного неба и для советских граждан, и для подданных Третьего рейха. Агитпроп обеих стран ломал голову, как заставить население забыть то, что вдалбливалось ему еще накануне – о непримиримом антагонизме двух идеологий, «звериной» сущности соответственно национал-социализма и большевизма. Но, как писал Джордж Оруэлл, «новизна тоталитаризма – в том, что его доктрины не только неоспоримы, но и переменчивы». В обеих столицах пришли к выводу, что идеологические противоречия двух режимов следует приглушить и взять курс на культурное сближение. В Германии сняли с проката «Броненосец «Севастополь». В СССР исчез из кинотеатров «Александр Невский» Эйзенштейна, в котором русское войско громит Тевтонский орден. Перестали показывать и все перечисленные выше антинацистские картины. На двусторонних переговорах то и дело заходит речь о том, что неплохо было бы подписать соглашение о культурных обменах» [5].
Но художественная поддержка, конечно, была организована сверху, тем более власти вообще приятно, когда творцы бросаются выполнять их указания. Вот рассказ о звонке сверху Эйзенштейну, которому доверили эту постановку: «Звонок этот имел место 30 декабря, спустя пять дней после обмена теплыми посланиями между Гитлером и Сталиным по случаю 60-летия советского вождя. Вряд ли стоит сомневаться в том, что идея поставить «Валькирию» исходила из самых высоких инстанций. Вагнера в СССР перестали ставить в 30-е годы. Советскому правящему ареопагу он представлялся непонятным мистиком, к тому же было известно, что Вагнера обожает Гитлер, считая его истинным выразителем арийского духа. Но именно это и стало решающим фактором в создавшейся политической обстановке.»
Обмен операми должен был символизировать дружбу. Но когда два диктатора изображают дружбу, они сами не верят друг другу. Как говорил Ходжа Насредин — от слова халва во рту слаще не станет…
По этой причине дружба операми не сработала: «Советско-германский культурный ренессанс не состоялся. «Валькирию» дали в Большом всего шесть раз. 27 февраля 1941 года прошел последний спектакль. Эйзенштейн больше никогда не ставил опер. Германия со своей стороны поставила оперу М. Глинки «Жизнь за царя», в советское время переименованную в «Иван Сусанин». Музыковед Тернявский говорит: «Поначалу я был ошарашен, что немцы поставили эту оперу именно перед войной с Россией, но потом я понял, что в этом есть какая-то логика. Ведь тема оперы – борьба с польскими захватчиками. Наверное, это импонировало Германии, которая тогда была временным союзником России» [6].
Это был такой обмен мифами, причем такими корни которых спрятаны далеко позади. Мифы не всегда правдивы, но мы им верим, поскольку они усиливают наше понимание мира. Если же с ними начинать разбираться… К примеру, сегодняшний технологический миф делает из айтишников спасителей будущего человечества, и общество именно так к ним относится. Но экономист Д. Асемоглу видит обратные последствия: «вместо этого цифровые технологии стали еще более централизованными. IBM становилась все могущественнее и не теряла своей власти, как надеялись первые энтузиасты компьютерной эры. Microsoft лишь укрепила централизацию технологий, а огромное количество усилий в технологическом секторе было направлено на автоматизацию, что означало вытеснение работников из производственного процесса, а не создание новых задач и возможностей для них. Именно это, как мы пишем в книге (а я доказывал в моих исследованиях на основе статистических данных), оказалось в основе огромного роста неравенства в промышленно развитых странах, а также стало причиной, по которой технологии не принесли людям того роста производительности, на который многие надеялись. Одновременно технологии сделали централизованной и информацию, хотя, опять же, надежда была на то, что они помогут ее децентрализовать. Помните, все эти wiki, блоги, да даже фейсбук — в начале 2000-х люди надеялись, что все это поможет демократизировать то, как распространяется информация, но получилось наоборот. Фейсбук контролирует то, что вы видите, то, какая информация к вам попадает, намного сильнее, чем какие-нибудь медиамагнаты прошлого» [7].
Так что мифы могут сознательно запускаться в наши головы для получения нужного власти результата. Война Путина активизировала старый миф о НАТО как о главном враге России, и она началась с опорой на этот миф. Эта война оказалась пропагандистской войной, которую запустили не в виртуальном пространстве, а в физическом. Реальность стала воплощать пропаганду.
Интересно, что Оруэлл говорит именно о вранье как о главной составляющей тоталитарного государства. Он рассуждает так:
«Отлаженное вранье, ставшее привычным в тоталитарном государстве, отнюдь не временная уловка вроде военной дезинформации, что бы там порой ни говорили. Оно лежит в самой природе тоталитаризма и будет существовать даже после того, как отпадет нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди мыслящих коммунистов имеет хождение негласная легенда о том, что, хотя сейчас Советское правительство вынуждено прибегать к лживой пропаганде, судебным инсценировкам и т. п., оно втайне фиксирует подлинные факты и когда-нибудь в будущем их обнародует. Мы, думаю, можем со всей уверенностью сказать, что это не так, потому что подобный образ действий характерен для либерального историка, убежденного, что прошлое невозможно изменить и что точность исторического знания — нечто самоценное и само собой разумеющееся. С тоталитарной же точки зрения историю надлежит скорее творить, чем изучать. Тоталитарное государство — в сущности, теократия, и его правящей касте, чтобы сохранить свое положение, следует выглядеть непогрешимой. А поскольку в действительности не бывает людей непогрешимых, то нередко возникает необходимость перекраивать прошлое, чтобы доказать, что той или иной ошибки не было или что те или иные воображаемые победы имели место на самом деле. Опять же всякий значительный поворот в политике сопровождается соответствующим изменением в учении и переоценками видных исторических деятелей. Такое случается повсюду, но в обществе, где на каждом данном этапе разрешено только одно-единственное мнение, это почти неизбежно оборачивается прямой фальсификацией. Тоталитаризм на практике требует непрерывного переписывания прошлого и в конечном счете, вероятно, потребует отказа от веры в самую возможность существования объективной истины» [8].
То есть с его точки зрения ложь в авторитаризме и тоталитаризме является главным инструментарием для сохранения власти. Мир искажается не в угоду достижения справедливости, а для целей удержания власти на все более долгие сроки. Вспомним, что для всех правителей такого рода очень опасно уходить в отставку, поскольку все лживое моментально рушится, отсюда их почти бесконечное нахождение у власти. Только смерть может остановить их правление.
Вечное нахождение у власти заставляет их создавать идеологию «имени себя». Интересно высказывание А. Зорина: «Для понимания идеологии важно не производство, а потребление. Это товар массового потребления, и суть не в том инженерном решении, которое идеолог нашел, а почему это продается и каким потребностям это отвечает. Люди неконсистентны сами по себе. У нас разные потребности, разные драйверы поведения, разные представления. И успешные идеологические модели апеллируют к разным ценностям одновременно, сглаживая и затушевывая противоречия между ними. Уже с конца 1990-х годов началась работа по созданию непротиворечивого идеологического нарратива, который бы соединял Киевскую Русь, Московское княжество, Московское царство, Петербургскую империю, Советский Союз и постсоветскую Россию в единую линию. Этот нарратив отрабатывался долго. Из него выбрасывали звенья, находили решения, позволявшие объяснить, почему Николай II был прекрасен, а расстрелявшие его большевики тоже были прекрасны, почему Московское царство было замечательным, а ненавидевший его Пётр тоже был глубоко прав».
Пропаганда позволяет объяснять непонятное, поскольку население не вникает в аргументы, а фиксирует в памяти формульные истины, которые потом легко восстанавливаются в памяти. Пропаганда опирается не на поиск истины, а на создание памяти в массовом сознании. А память создается многократным повторением «истин» пропаганды.
Пропаганда становится фактором международной политики, когда обе стороны хотят изобразить миролюбие. Медиа в этом случае способно победить реальность. Авторитарные медиа, управляемые из одного центра, говорят одно и то же, подтверждая это разными аргументами. Никто не может избежать знания истин пропаганды.
Так возникла первая «разрядка» в истории, реализовавшаяся в отношениях СССР и Германии: «Напряжение длительного периода, пока советская Россия и фашистская Германия находились на пороге войны, внезапно сменилось разрядкой: в августе 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа о ненападении. На идеологии и культурной жизни обеих стран результаты сказались незамедлительно. Аккомпанементом подписания пакта стало посещение министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом «Лебединого озера» в Большом театре в сентябре 1939 года и постановки в Германии любимцами фюрера русских авторов: Лени Риффеншталь – прокофьевского балета «Ромео и Джульетта», Густавом Грюндгенсом – чеховских «Вишневого сада» и «Трех сестер», а также более чем официозного в этом контексте «Ивана Сусанина» Глинки с его антипольской риторикой. Позже, в обращении к немецким радиослушателям 18 февраля 1940 года, Эйзенштейн, отметив именно интерес немецкой стороны к «Сусанину», сказал: «Мы рады, что на этот шаг мы можем ответить “Валькирией”». Да и само приглашение поставить оперу Вагнера Эйзенштейн получил 20 декабря 1939 года – сразу после празднования 60-летнего юбилея Сталина, на чествовании которого была зачитана телеграмма от Гитлера и Геббельса, гласившая: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, обладает всеми предпосылками, чтобы оставаться долгой и продолжительной». До нападения Германии на СССР оставалось полтора года» [10].
Эта «разрядка» манифестировалась в художественной сфере. Диктаторы хотели обмануть друг друга, по этой причине именно художественная сфера оказалась наиболее подходящей для этого. Она говорит то, что нужно, умалчивая о многом.
М. Ефимов рассуждает о музыке следующим образом [11]: «Музыка в Советском Союзе была делом идеологически важным, идеологически нейтральной музыки, как и вообще чего бы то ни было идеологически нейтрального, в Советском Союзе было мало. Есть некая официальная советская идеологическая установка. Музыка для масс, музыка имеет некое содержание, у нее есть программа, и музыка – это та песня, которая нам строить и жить помогает. Это музыка русская, старая русская музыка, это музыка старая европейская, и мы в Советском Союзе это все препарируем и приготовляем для употребления советским человеком».
И еще: «мы помним, твердо знаем, что такое 1948 год. Это знаменитое постановление Политбюро, где величайшие русские композиторы советского периода во главе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем были обвинены в буржуазном формализме, декадентстве и, понятным образом, пресмыкательстве перед Западом. И в том же самом 1948 году, в официальном советском музыковедческом журнале было дано определение: западная музыка современная – это «всеобщий маразм». И в эту категорию «всеобщего маразма» современной западной музыки попали Игорь Стравинский, Арнольд Шенберг, Дариюс Мийо, Оливье Мессиан, Пауль Хиндемит, Альбан Берг, Бенджамин Бриттен. Это все – «всеобщий маразм», как это видится официально из Союза композиторов Советского Союза в 1948 году. А в 1971 году у нас уже «Кавалер розы» Рихарда Штрауса, который, опять же, непонятно, случайность или что-то другое?».
И он также возвращается к взгляду на музыку с точки зрения потребления: «в Советском Союзе, как мы с вами помним, основополагающая поведенческая модель потребительская – это существование в условиях тотального дефицита. Поэтому я бы рискнул предложить такой тезис, который, боюсь, никому не понравится. Тоска по мировой культуре в какой-то момент, не сразу, не в один день, переродилась в тоску по дефицитным товарам и породила поэтику дефицита, поэтику и поэзию дефицита, когда уже трудно понять: это про высокое или это про трудно добываемое – по талонам, по знакомству, через знакомого администратора, через знакомого продавца, через знакомого оркестранта или как-нибудь еще. Мне кажется, что наступил какой-то гибрид, из вот этой искренней тоски и погони за дефицитным зеленым горошком. И даже если этот зеленый горошек – это пластинка с музыкой Игоря Стравинского. И последствия у этого, в общем, разрушающие. Описано все это многократно, это описано даже внутри советского пространства – весь поздний Юрий Трифонов в значительной степени об этом. Если мы смотрим на каталоги пластинок или если мы смотрим на списки гастрольных приездов гастрольных знаменитостей, это напоминает «Книгу о вкусной и здоровой пище». То есть книга у нас есть, с картинками цветными есть, и там есть разные удивительные, страшные, загадочные слова, термины, названия частей филе, туши и прочее. Но в реальности этого ничего нет. В реальности нужно добывать простейшие вещи, питаться простейшим и уметь им радоваться. Люди ведь не пищу лишь добывали, люди добывали книгу о пище, и это в какой-то момент стало вполне самодостаточным предприятием».
Советская власть любила искусство, справедливо видя в нем «подраздел» пропаганды. Но искусством идеологам приходилось заниматься, поскольку пропаганду люди не очень любили, а искусство боготворили. В этой сфере пропаганда имела возможность говорить все то, что хотела, но избираемая форма накладывала серьезный ограничения.
Перед нами возникает то, что можно обозначить термином художественная пропаганда, то есть пропаганда с помощью инструментария искусства. Если просто пропаганда старается сохранить видимость правды, то художественная пропаганда в целях большей зрелищности, можно строить пропагандистское высказывание с опорой на разум, а можно — с опорой на чувства. В последнем случае роль реальности как опоры во многом размывается. Однако это только усиливает воздействие.
Советское послереволюционное искусство было именно таким. Оно разрушало старый мир и возводило новый. Этот творческий порыв был вполне искренним, в отличие от искусственных попыток дня сегодняшнего. Тогда пропаганда еще не была пропагандой в плане застывших методов и форм.
«Художественное» в своем революционном преломлении является реальной силой. Искусство может побеждать старую реальность и создавать новую. Оно также восстанавливать утраченную реальность. Это такое конструирование реальности в мозгах. Отсюда становится понятной идея запрета книг и фильмов, которые власть относит к опасным именно по причине такого возможного конструирования. Именно отсюда идея «иноагентов», правда, прямо и косвенно повторяющая идею сталинских «врагов народа».
В. Подорога отмечает и такой вариант позитивного конструирования: «Позиция Эйзенштейна иная: он полагает, что именно искусству поручено восстановление памяти о Революции и исторических событиях, которые ей предшествовали. Сила эстетического авангарда в том, что он настолько уверенно знает Будущее, что переживает его как Настоящее. А пережить Будущее «здесь и сейчас» можно только экстатически, поддерживая переживание всеми доступными средствами. Интерес Эйзенштейна к экстатике и экстазу в самых широких контекстах изучения был связан с пониманием Революции в качестве революционного Мифа. Показывая необходимость мифографии Революции, он рассматривал проблему исторической истины как вторичную и несущественную, поскольку исходил не из того, что действительно случилось, а из того, что должно было случиться. А это значит, что события октября 1917 г. должны стать Революцией в умах людей, обрести свой порядок высказывания в том, что мы называем революционным мифом» [12].
Мир строится во всех трех пространствах — физическом, информационном и виртуальном. Виртуальность серьезно развивается человечеством во все века. И именно она становится основой пропаганды, поскольку является конструктом в мозгах. Конструирование правильной виртуальности и является целью пропаганды.
Литература
- 1. Рожнов Б.А. Утонул ли Василий Чапаев в реке Урал? https://www.ng.ru/ideas/2023-05-23/8_8730_chapaev.html
- 2. Сидорчик А. Последний бой Чапаева. Как на самом деле погиб легендарный комдив? https://aif.ru/society/history/posledniy_boy_chapaeva_kak_na_samom_dele_pogib_legendarnyy_komdiv
- 1. Лени Рифеншталь — пропагандистка Третьего рейха и самый спорный культурный деятель XX века https://www.tatler.ru/heroes/leni-rifenshtal-propagandistka-tretego-rejha-i-samyj-spornyj-kulturnyj-deyatel-xx-veka
- 2. Уваров С. Необыкновенный фашизм: как Лени Рифеншталь создавала образ настоящего зла https://iz.ru/1381664/sergei-uvarov/neobyknovennyi-fashizm-kak-leni-rifenshtal-sozdavala-obraz-nastoiashchego-zla
- 3. Шуман Е. Лени Рифеншталь и преступления «третьего рейха» https://www.dw.com/ru/leni-rifenstahl-novye-fakty-o-ee-souchastii-v-prestuplenijah-tretego-reicha/a-55578764
- 4. Шишкова Т. Танцы с пиками. Как «Иван Грозный» Эйзенштейна должен был оправдать Сталина, а в результате его обличил
- https://www.kommersant.ru/doc/4958136
- 5. Абаринов В. Пакт. Как «Иван Сусанин» и «Валькирия» крепили советско-нацистскую дружбу https://www.svoboda.org/a/30325625.html
- 6. Кудабаева Р. Культурный обмен под звуки Вагнера и Глинки https://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090901_germany_russia_culture
- 7. Лютова М. Экономист Дарон Асемоглу написал книгу об угрозах искусственного интеллекта — и о том, как правильное управление может обратить его на пользу человечеству https://meduza.io/feature/2023/06/19/ekonomist-daron-asemoglu-napisal-knigu-ob-ugrozah-iskusstvennogo-intellekta-i-o-tom-kak-pravilnoe-upravlenie-mozhet-obratit-ego-na-polzu-chelovechestvu
- 8. Оруэлл Дж. Подавление литературы https://www.orwell.ru/library/essays/prevention/russian/r_plit
- 9. Сенников Е. «Многие не понимали, что 30 лет не срок, что империя еще не распалась»: интервью с историком Андреем Зориным
- https://perito.media/posts/mnogie-ne-ponimali-chto-30-let-ne-srok-chto-imperiya-eshche-ne-raspalas-intervyu-s-istorikom-andreem-zorinym
- 10. Раку М. Прерванный «полет валькирий»: к советской истории вагнеровского наследия. Часть 1 https://nashagazeta.ch/news/culture/prervannyy-polet-valkiriy-k-sovetskoy-istorii-vagnerovskogo-naslediya-chast-1
- 11. Толстой И. Музыкальный дефицит и «всеобщий маразм» https://www.svoboda.org/a/31113931.htmlD
- 12. Подорога В.А. Революция как миф авангарда. Высокая ставка: Дз. Вертов — С. Эйзенштейн https://cyberleninka.ru/article/n/revolyutsiya-kak-mif-avangarda-vysokaya-stavka-dz-vertov-s-eyzenshteyn
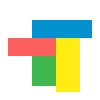
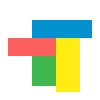
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F952072fc-5e66-483c-922a-bfc4e7c25591.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F252a87fd-d007-429e-9b28-e302b33969f9.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2Faf7314c7-991b-473b-a433-e81dc2a23b81.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2Fdddd9a52-18f0-4441-bb8e-3d783681dbed.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F457%2Fbdefa655c2a52f6fdd130d0144c1493b.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2F72ee5b254a24e9337b5b2b20bf9632d4.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F10719ec2ee1afa58cecc921ae42f9b3c.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F131%2Ff433345c18014e278939c9d75efda65c.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F28%2Ff016ac3f1ce299f61fd18c1900a9c8f1)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F88%2F869603fbb148798342cb3f2a79662912.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F726914f9bb4eda83aec106d1ef77cabd.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F28%2Fcfaf5f65e2968486ef6045b518b969ee)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F434%2Fb1d5b4952f8b03ce11ee626bdc999317.jpg)