В условиях войны все чаще звучит тема восстановления жилых кварталов, инфраструктуры, публичных пространств, укрытий. За каждым из этих объектов должен стоять архитектор — специалист, который не только обладает художественным видением, но и понимает нормативную базу, умеет работать в команде, управлять проектами и нести ответственность. Обеспечивает ли система, в которой готовят архитекторов, должную подготовку к этим вызовам?
Как выглядит архитектурное образование изнутри, какие ошибки оно системно воспроизводит и почему без реального обновления программы мы рискуем потерять еще одно поколение специалистов?
Как пандемия и война оголили слабости системы
Кризис в архитектурном образовании начался еще во время пандемии, когда весь учебный процесс перекочевал в Zoom. Архитектура — это не то, что можно списать у кого-то или сделать на коленке. Консультации по проектам, макеты, эксперименты с материалами — все это исчезло с переходом в онлайн.
А потом пришла полномасштабная война. Первые месяцы после вторжения никто не думал об учебе. Все искали жилье, выезжали, релоцировались. Но потом внимание общества к архитектурному образованию возросло, появилось понимание, что оно является инструментом восстановления.
Начали появляться волонтерские инициативы — кто-то проектировал временные приюты для переселенцев в спортзалах, кто-то подключался к реальным архитектурным задачам на строительстве. Стал ощутимым запрос на молодых специалистов. Но был и фильтр: не всех можно было привлечь. Нужны были специалисты, которые имеют хотя бы базовые навыки, не только мотивацию.
Системная проблема — отрыв от практики
Самая большая слабость архитектурного образования — отрыв от практики. Во многих учебных программах теоретические знания (лекции, история, теория дизайна) подают отдельно от практических навыков (проектирование, макетирование, работа с нормативкой). Из-за этого студенты часто не видят связи между тем, что изучают, и тем, как это применяется на практике.
Поэтому выпускники часто не имеют базового представления о бюджетировании, этапности реализации проекта или презентации идеи заказчику. А это критически важные компоненты профессиональной деятельности. В итоге молодые архитекторы попадают на рынок труда с благими намерениями, но без инструментов и вынуждены учиться всему с нуля уже на рабочем месте.
Зато те, кто параллельно с учебой успевает работать в бюро или принимать участие в конкурсах, получают преимущество. Именно практика — даже простейшая, а именно обмеры фасадов или черчение технической документации — формирует профессиональную идентичность намного эффективнее, чем абстрактные эскизы в рамках курсовых проектов. Идеальное архитектурное образование — это не компромисс между теорией и практикой. Потому что это не два отдельных мира, между которыми приходится лавировать. Это живая органичная система, где все связано в единую логику обучения: аналитика — проектирование — реализация. Со знанием контекста и четкой ответственностью перед людьми.
Зато частные архитектурные школы демонстрируют более современный подход. У них есть возможность приглашать к преподаванию самых лучших специалистов, аккредитовать современные программы и вместе с тем набирать меньше студентов, что позволяет лучше организовать менторство и обеспечить качество. Несмотря на то, что обучение платное, для частных школ качество — приоритет. И не только потому, что это вопрос репутации. Но и потому, что такой подход реалистичнее в условиях рынка труда — зачем нам по двести архитекторов на поток, если будут работать по специальности потом шестеро?
Консерватизм
Несмотря на важность изменений, университетская система остается консервативной. Молодым специалистам сложно приобщиться к преподаванию: процесс отягощен бюрократией, низкой оплатой и устаревшей культурой взаимодействия — титулы весят больше идеи.
Именно поэтому все больше архитекторов отдают преимущество преподаванию в неформальном образовании: создают собственные курсы, читают лекции на независимых платформах или проводят воркшопы. Это позволяет быстрее реагировать на запросы профессии и передавать актуальные знания практически.
Устаревшие программы
Проблема архитектурного образования также в отставании от современных реалий. Учебные программы часто сосредоточены на стандартных решениях. А все, что выходит за рамки шаблона, объявляют слишком сложным, неактуальным либо просто непредусмотренным методическими указаниями.
Из-за отсутствия обновленного подхода студенты вынуждены брать ответственность за свое образование на себя: искать менторов среди опытных архитекторов-практиков и учиться анализировать архитектуру не только как визуальное искусство (красивые фасады, эффектные формы, стиль), а как комплексную систему — с учетом функции, структуры и контекста: для чего мы это строим, какие функции будет выполнять здание, будет ли отвечать оно сценариям жизни (работе, учебе, отдыху), связанным с ней. Конечно, теоретически это может рассказать на лекции и преподаватель-теоретик, но ответить на вопрос, как именно это построить, не может. Получается так, что архитектура — это творческая профессия, но преподают ее шаблонно.
Усиливает проблему и то, что большинство преподавателей не практики. Они не работают в бюро, не сталкиваются с реальными проектами и не обновляют знания о нормативной базе. В итоге выпускники вуза с дипломом архитектора не знают, как читать государственные строительные нормы (ГСН) — а это ключевой документ, без которого невозможна никакая реализация. Его сложно понять без опыта: он сухой, технический, без визуализаций, но крайне нужный в работе.
«Ожидание/реальность»: без мощной базы нет прогресса
Архитектура — это на самом деле не только о строительстве или дизайне. Она передает идеи, ценности, эмоции и даже политические или социальные установки — так же, как это делает музыка, живопись. Она формирует среду, которая говорит с людьми через форму (открытая или закрытая), масштаб (доминирует над человеком или дает ощущение уюта), материалы (холодные или теплые, природные или искусственные), пространство (изоляция или приглашение к взаимодействию). Раньше, в советское время, архитектура работала как инструмент подчинения: советский ампир, массивные формы, гнетущее пространство — все это создавало ощущение малозначительности человека перед системой. Сейчас система изменилась, но архитектура как язык меняется медленнее, чем люди.
Молодые архитекторы выходят после учебы с желанием создать лучшее, более удобное, более человечное пространство. И это важно. Но реальность быстро выставляет границы — бюджеты, дедлайны, компромиссы с заказчиками. И этому тоже нужно учить.
Университет должен дать фундамент, а неформальное образование должно прокачать отдельные скилы. Но без сильной базы все это не работает.
И тут мы сталкиваемся с главным тормозом — государственной системой. Формально диалог есть: круглые столы, комитеты, встречи. Фактически же, чтобы изменить пункт в ГСН, надо написать обращение синей ручкой на крафтовой бумаге в дождливый четверг 30 февраля. И это не преувеличение.
Даже в войну, когда время имело критичное значение, принятие нового ГСН по укрытиям оказалось срочным — документ появился, а как с ним работать, до сих пор непонятно.
А главная проблема — отсутствие видения. Никто не объяснил, какой должна стать Украина через 50 лет. Без этого невозможно изменить ни города, ни образование, ни подход к архитектуре.
Будущее проектируется сегодня
Сейчас архитектурное образование напоминает старое здание с крепким фундаментом, но еще и с выбитыми окнами, устаревшей планировкой и плохой вентиляцией. Его не надо сносить, но нужно основательно реконструировать. Впрочем, изменения начинаются не с реформ на бумаге, а с честного вопроса: что мы хотим построить? И каких специалистов подготовить?
Мы не можем позволить себе готовить архитекторов вслепую, без реального опыта, понимания контекста, практических инструментов. В условиях, когда страна нуждается в масштабном восстановлении, архитектура становится вопросом устойчивости, безопасности, достоинства жизни.
Архитектурное образование нужно превратить из системы воспроизведения шаблонов в среду формирования критического мышления, ответственности и навыков реального проектирования. Будущие архитекторы должны выходить из аудитории не с набором схем, а с пониманием, что они проектируют не только здания, но и образ жизни и будущее страны.
Если мы начнем действовать сейчас, через десять лет у нас будет не просто отстроенная страна. Мы получим поколение архитекторов, которые могут создавать будущее, а не догонять прошлое.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2F0b07e89507b312fe401076436b41e3fa)
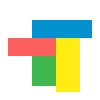
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F63%2Fe453f43b1730f257b660a0bf1abddf30.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F10%2Fd49174ac78f5c960f9181afc0c27da57)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F1f26b098885ed98297305197ec205bb3.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2F1b5736a7d0e82a2820343ce45fc4c114.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F30edc058ceeee47e1559941c6c1b610a.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Ff4b9a0ecfb98536bce2bfecc11a204b6.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2Fe665939caad5f9960c6cc3413d8e1569)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F79c1a73493690192ba52d36e7049551a.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2Fdeb209c789012f79b5c3ef7cbbe9f666)