/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F131%2F4242f802eb8af5095136114e4d67b276.jpg)
Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
Несмотря на заявления о "стабильности", российская экономика, которая все свои ресурсы направляет на войну против Украины, продолжает трещать по швам. В России официально зафиксировали падение ВВП, и недавно кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о возможном сокращении расходов на оборону. В то же время, в Кремле рассчитывают, что снижение ключевой ставки простимулирует бизнес и ослабит рецессию, в которую успела скатиться экономика страны-агрессора.
В первой части интервью Главреду бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко рассказал, смогут ли российские власти вытащить российскую экономику из рецессии и почему Путину некуда больше наращивать расходы на армию.
Путин заявил о планах сокращения военных расходов. Как, по-вашему, стоит трактовать это заявление? Это уже признак проблем, которые больше не удается скрывать, как раньше? Или же можно говорить о возможной перегруппировке сил?
Мне кажется, что эти слова Путина вырваны из контекста. А любые слова, вырванные из контекста, либо теряют свой смысл, либо приобретают новый. Если посмотреть на документ под названием "Основные направления бюджетной политики", который Минфин России ежегодно готовит, то можно заметить интересную закономерность. Когда в 2022 году началась война, Минфин подготовил документ на 2023 год — и в нем было написано, что в 2023 году военные расходы сократятся.
Осенью 2023 года написали, что расходы сократятся в 2024-м. Осенью 2024-го — что в 2025-м. И вот теперь, летом 2025 года, Путин снова говорит, что "когда-нибудь" расходы на войну сократятся. То есть: когда закончится война — тогда они и могут сократиться.
Давайте трактовать это заявление именно так. Это точно не свидетельствует ни о мирных намерениях, ни о готовности Путина к компромиссам, ни тем более о возвращении к границам 24 февраля 2022 года или 1991 года. Ничего подобного.
Путин намерен продолжать войну, и как видно по последним событиям — по российским атакам на Украину, которые становятся все более суровыми и жестокими — совершенно точно не стоит думать, что у Путина закончились деньги. Все его разговоры о сокращении расходов относятся к будущему. Не нужно воспринимать его как идиота. Экономисты, которые его окружают, достаточно квалифицированы, профессиональны и способны ему все объяснить. А судя по этому разговору и другим его выступлениям он понимает, что военные расходы разгоняют инфляцию, инфляция требует от Центрального банка повышения ключевой ставки, а высокая ставка тормозит развитие невоенных секторов экономики. Он все это понимает. Но для него сегодняшняя цена является приемлемой.
Поэтому все, что он сказал о "сокращении военных расходов" касается исключительно послевоенного времени, и я тоже не стал бы сразу воспринимать это за чистую монету.
В том же выступлении Путин озвучил цифру 6,3 % ВВП, которые идут на военные расходы. Это уже потолок для российской экономики или есть еще запас для роста?
Хороший вопрос. Как и с любым экономическим показателем, нужно сначала договориться, что именно мы туда включаем, а что – нет. 6,3 % ВВП, о которых говорил Путин, — это то, что записано в законе о федеральном бюджете в соотношении к тому ВВП, который Минэкономики планировало — или, точнее, прогнозировало — на момент утверждения бюджета.
Есть уважаемая международная структура — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), которая считает военные расходы всех стран по методологии НАТО. И если включить в расчет те расходы, которые не учитываются в официальном российском бюджете — например, пенсии военным, затраты на закрытые административно-территориальные образования, содержание военных городков, производство ядерного оружия и прочее, — то по оценке SIPRI получается уже 7,1 % ВВП.
Поэтому здесь мы можем говорить о том, что, как и любой другой Минфин, российское министерство финансов умеет "играть" с цифрами — перебрасывать расходы из одной статьи в другую, получая из 6,3 %, например, 3,6 %, или наоборот. С другой стороны, и российский Минфин, и SIPRI совпадают в оценке роста военных расходов РФ по сравнению с довоенным временем: примерно на 3–3,2 процентных пункта ВВП. В этом смысле можно сказать, что российский Минфин, по крайней мере здесь, не сильно врет. Или, по крайней мере, SIPRI как уважаемая международная организация ему доверяет.
Можно ли тратить на войну больше? Вопрос — а как именно? Мы понимаем, что военные расходы — те самые 6,3 % ВВП — в России условно можно разделить на три части.
Первая часть — это текущее содержание вооруженных сил. То, что было до войны: военные городки, части, подводные лодки, Северный флот — в общем, вся инфраструктура, разбросанная по стране. На ее содержание, поддержание и обновление ежегодно уходило около 3% ВВП. Возможно, где-то расходы были урезаны. Возможно, где-то, наоборот, увеличились — скажем, российские бомбардировщики теперь совершают не учебные полеты, а боевые вылеты. Но в любом случае эта часть — про текущее содержание армии.
Вторая часть — это прямые расходы на ведение военных действий. Их тоже можно разбить — на две или даже три категории (у меня, как всегда, число частей растет).
Первое — это выплаты военнослужащим: выплаты тем, кто воюет, выплаты тем, кто убивает, выплаты семьям погибших. Можно ли эту статью увеличить? Наверное, да — если набрать в армию больше людей.
Сегодня, по усредненным оценкам, в Украине или на границе с Украиной российская группировка составляет примерно 750 тысяч человек. Если увеличить эту численность, предположим, в полтора-два раза, то, соответственно, и расходы вырастут. Но вопрос в том, что уже три года, с осени 2022 года, мы видим, что Генштаб России избегает масштабной мобилизации. Он понимает, что ему 300–400 тысяч человек одномоментно не нужно. Ему нужно примерно 30 тысяч в месяц, которых он набирает — это его устраивает. Поэтому я не вижу особой необходимости для Путина или российского Минфина увеличивать военные расходы.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F131%2Fd4d7020e69e82304c08b544c814f4824.jpg)
Могут ли вырасти выплаты за убитых и раненых? Да, но это уже зависит не от России, а от действий ВСУ — насколько успешными и результативными они будут. Но сказать, что можно в два раза увеличить число убитых или раненых российских солдат — это будет сильным преувеличением. Здесь возможен небольшой люфт, но главное — эта цифра не зависит ни от Минфина РФ , ни от Генштаба, ни от Путина. Она зависит от Украины.
Далее идут так называемые текущие расходы — топливо, питание, медицина. Они прямо привязаны к численности военнослужащих на фронте. То есть опять же, сколько человек воюет — столько и тратят.
И, наконец, отдельная статья — расходы на вооружение и боеприпасы. Можно ли их производить больше? Судя по тем отрывочным данным статистики, которые публикуются в России, все российское производство вооружений условно делится на две части (как обычно — все делим).
Первая часть — это так называемые классические вооружения: танки, пушки, снаряды, в определенной мере ракеты. Все то, что было разработано еще в советские времена, и производственные мощности тогда же были созданы.
Насколько я понимаю, эти мощности сегодня загружены на полную катушку. Понятно, что не на 100 %, потому что нужно делать технологические перерывы, проводить обслуживание, ремонт. Но по сути они загружены в три смены семь дней в неделю. И никаких новых заводов в этой сфере не строится. Потому что строительство любого нового предприятия требует огромных инвестиций и времени. А на это российский бюджет пока идти не готов.
Вторая часть — современные средства ведения войны: дроны, средства радиоэлектронной борьбы, оптические приборы и так далее. Это производство в России, по большому счету, сборочное. Оно не требует больших инвестиций и сверхточного оборудования — оно требует закупки комплектующих и сборки.
И вот здесь у России, я бы сказал, есть резерв для наращивания. Последняя сводка Росстата по промышленному производству за 5 месяцев этого года показывает: по таким статьям, как компьютеры, радиоэлектронные устройства и сопутствующие компоненты, рост к прошлому году составил от 25 до 45%.
То есть можно говорить, что в этой части у России действительно есть некий резерв и в этом направлении имеет смысл тратить больше денег. А если вы тратите больше денег — строите, скажем, новый цех или завод по сборке дронов — вы, соответственно, должны за это заплатить. Но, как мне кажется, эта сфера все же занимает довольно небольшую часть военного бюджета. Мы можем спорить, сколько именно — 5, 10%, но понятно, что речь не идет о кратном увеличении.
Подводя итог этому длинному монологу, я бы сказал так: нынешний уровень военных расходов соответствует амбициям Путина как главнокомандующего. Он считает, что с текущей группировкой порядка 750 тысяч человек, и с теми объемами поставок вооружений и боеприпасов, которые обеспечивает российская промышленность, — он в состоянии додавить Украину. Увеличивать расходы вдвое — не имеет смысла. Увеличить на 10 % — да, он может. Но тут все упирается в расчеты Минфина, индекс инфляции, изменение цен на комплектующие. В случае, например, если ослабнет рубль — импорт подорожает.
Так что я бы сформулировал так: Путин готов потратить больше, но тратить в два раза больше ему просто некуда.
При этом мы видим коллапс в гражданской экономике — в ее отдельных отраслях, в ключевых сегментах. Можно сказать, мы наблюдаем буквально "парад" госпредприятий, которые либо уже объявили о банкротстве, либо балансируют на грани и требуют дополнительного финансирования. В такой ситуации, как долго военная часть экономики может, условно говоря, "тянуть" гражданскую?
Если говорить об агрегированных (совокупных) показателях экономической динамики — росте или снижении ВВП, промышленного производства и т. д. — то, судя по всему, в первом квартале результирующий вектор оказался равен нулю. То есть: насколько военная экономика способна "тянуть" промышленность вверх, настолько же гражданская промышленность тянет ее вниз. И в итоге рост ВВП и промышленности прекратился. Мы можем сказать, что наступило своего рода равновесие.
Но это, знаете, как средняя температура по больнице. Если у меня температура 35, а у вас — 38, то и вам плохо, и мне плохо. Нельзя сказать, что среднее значение 37,2 нас обоих устраивает. Может быть, больницу она и устроит, но о реальном состоянии ни моем, ни вашем — не скажет ничего.
Соответственно, может ли военная экономика тянуть за собой гражданскую в технологическом смысле? Нет. Этого никогда не было ни в Советском Союзе, ни в современной России – оба сектора экономики существовали автономно друг от друга. Может ли военная промышленность генерировать доходы, которые будут поддерживать бюджет? Об этом смешно говорить, потому что вся финансовая система России устроена с точностью до наоборот: Минфин обирает всю гражданскую экономику, чтобы финансировать военные расходы — через повышение налогов, сокращение социальных расходов, инфляцию. Поэтому если военная экономика и делает что-то хорошее, то это — приукрашивает статистику. Но не более того.
Тогда какие признаки, по-вашему, можно будет считать хотя бы так называемым началом конца? То есть по каким маркерам можно будет судить, что с российской экономикой действительно все плохо? Особенно если уже и по вертикали власти это начинают признавать.
Послушайте, мне кажется, что вы все-таки несколько преувеличиваете проблемы российской экономики. Когда мы говорим, насколько все плохо или насколько все хорошо, важно понимать, что эти определения относительны.
Плохо — по сравнению с чем? Хорошо — относительно чего? То, что в российской экономике прекратился рост, еще не означает, что она рухнула или рухнет завтра. Это не значит, что завтра ВВП обвалится на 10%, как это было, например, во втором квартале 2022 года, когда только ввели масштабные санкции.
Ситуация низкого или замедленного экономического роста — это, по сути, нормальное состояние путинской экономики. Фактически с 2012-2013 года, когда Путин вернулся в Кремль, средний темп роста ВВП составляет чуть больше 1% в год.
Опять же, это так же "средняя температура по больнице" — были годы, когда экономика падала или быстро росла. Но если взять усредненную динамику за последние 10–12 лет, включая все президентские сроки Путина, то, что мы видим в 2025 году, вполне укладывается в эту траекторию. Поэтому, если говорить по большому счету, — ничего удивительного или чрезвычайного по сравнению с предыдущими годами мы не видим.
Другое дело, если мы снова посмотрим на статистику Росстата, то увидим: производство подсолнечного масла в России за 5 месяцев упало на 15%, а производство сахара — на 30%. Это явно говорит о том, что в экономике что-то ненормально и, скорее всего, дефицит сахара и подсолнечного масла выльется в ускорение инфляции в России.
И в этом смысле я бы советовал вам больше внимания обращать именно на динамику инфляции, потому что в конечном итоге это тот агрегированный показатель, та самая "средняя температура по больнице", которая говорит: все ли в порядке — или нет.
Если мы берем довоенные путинские годы — скажем, 10–12 лет до 2022-го — средний уровень инфляции составлял около 6% в год. Это, конечно, не Европа, не Америка, не 2% и не 0,5%. Так что нынешние 10–12% инфляции — это, безусловно, много, но это не 20, не 25, не 40 процентов. Мы видим, что во многом благодаря жесткой политике Центробанка РФ инфляция подавлена. Хотя, с моей точки зрения, большую роль сыграло не ужесточение кредитно-денежной политики, а укрепление рубля. Когда в конце ноября прошлого года доллар стоил 110 рублей, а сейчас он стоит меньше 80, это означает, что инфляция на непродовольственные товары, практически половина из которых импортируются, фактически остановилась. И именно это стало главным фактором снижения инфляции.
Тем не менее, с точки зрения Путина, его министров и экономистов, инфляция сейчас находится под контролем. Понятно, что в рецессии или пребывании на грани рецессии ничего хорошего нет. Отсутствие роста в любой экономике — это плохо. Но это не означает, что российская экономика находится на грани масштабного кризиса, и уж тем более не означает, что у Путина не будет денег или возможности поддерживать работу военной промышленности. Вот это, наверное, последнее, что рухнет в путинской системе — расходы на войну.
Ну и, соответственно, у меня, как и у каждого украинца, возникает логичный вопрос – когда у российской экономики как раз закончатся расходы на войну?
Не закончатся. Нужно хорошо понимать, что Россия тратит на войну не очень много. Мы в начале нашей беседы говорили, что увеличение военных расходов составило 3 с небольшим процента ВВП. И из этой суммы практически половина идет в качестве выплат людям — тем, кто воюет, или их семьям. С точки зрения макроэкономики и бюджетной политики — сейчас прозвучит абсолютно циничная вещь — бюджету все равно: платить деньги тем, кто убивает, или платить деньги пенсионерам.
Бюджет в целом собирает налоги с экономики и раздает их людям. То есть с позиции экономики это выглядит именно так — мы просто выбираем, кому эти деньги достаются. Соответственно, на боеприпасы, на все остальное — идет, ну, может быть, чуть больше полутора процентов ВВП. А дальше мы смотрим, за счет чего Путин получает эти деньги. А он получает их за счет того, что три года подряд повышались налоги: в среднем налоговая нагрузка увеличивалась примерно на 0,5% ВВП в год.
Мы видим сокращение расходов на гражданские сектора. В этом году, например, благодаря пенсионному законодательству, принятому еще в 2018 году, в России не появится ни одного нового пенсионера по возрасту. Так что, как говорится, "с миру по нитке — нищему рубаха". И, собственно говоря, финансирование военных расходов Путин обеспечивает за счет повышения налогов, сокращения гражданских расходов и аккуратного использования резервов из Фонда национального благосостояния.
Может ли он финансировать войну еще год, два, три, четыре? В моем понимании — может. Если он не будет увеличивать интенсивность войны, что потребовало бы роста расходов, то для российской экономика это, скорее всего, выносимо. Боливар вынесет Путина и войну.
О персоне: Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ.
Кандидат экономических наук.
С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов".
Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.
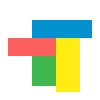
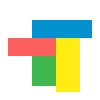
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2Fd0cbcacc-e9f0-4c19-814d-b2f2bd96b050.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F3f9a2b65-2522-47c8-90e5-1474f6f2fa87.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F10e54d4babbf87022ea624a2adef7dd8.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2Fe53ce41094859351e5ec15ad83d277d3.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fc525c673f324c6673aae029c56519a7a.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Ffb01e22fff22eaadf7132afd4217269c.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F7ea0ec793435c8dd048aa322f6538cd4.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F28%2Fe04d615f71aa9fa5cc2f3eb938284e2c)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Ff7c5cb50ed9556612d00d68b7cf54c47.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2Fd2bfd1beff3af38c0a94966b9a967fd4.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F83ea819717c83a01c34fb3b084fc4565.jpg)