С 2022 года украинские читатели четко разделились на два кластера: «я не могу читать про войну» и «я не могу не читать про войну». Психологически здесь все более-менее понятно — на взгляд два типа психологической защиты, но интересно поразмыслить с позиции сугубо техник письма и чтения.
В первый год большой войны писательская группа «Неспілка» издала сборник прозы «Неказки». Книга явно была терапевтическим, а уже потом литературным проектом. Авторы выбирали одну тему, ее им задавали бойцы ВСУ, потом к этой теме литераторы подбирали реальную задокументированную историю и уже на ее основе писали художественный рассказ. Так книга оформляет в слова события, которые тяжело рефлексировать тем, кто переживает их непосредственно. Произошел некий терапевтический перевод с украинского языка весны 2022 года на украинский осени 2022 года, причем при участии двух посредников: военного, определяющего вектор разговора, и реального героя истории. Такие писательские практики — интуитивное самоисцеление.
Есть широкоизвестный пример такой же практики, более радикальный. Ким Фук. Это вьетнамская девушка с известного фото, где дети, обожженные взрывом четырех напалмовых бомб, убегают из села, и она в центре композиции — обнаженная с обожженной спиной.
Уже взрослой Ким Фук написала и прочитала по радио эссе о том, как она отделяет себя от истерзанного тела, да и от той девушки на фото, ставшей символом антивоенного движения. Ее текст «переписывает» изображенное на фото. Она проговаривает свою боль и так подчеркивает свою субъектность: я, дескать, больше шрамов, я больше той маленькой на фото, у меня есть истории, которые у меня не отобрали чужие руки и чужие глаза. Этот очень сильный текст на самом деле написан о прощении.
И в первом, и во втором случае речь идет о терапевтическом письме, лечебный эффект которого направлен прежде всего на автора, а уже после того — на читателя, но без второго невозможно реализовать первый пункт. При терапевтическом письме автор «исцеляется» через внимательного, мотивированного читателя.
Джеймс Пеннебейкер — американский социальный психолог, изучающий связь языка и социальных процессов, — провел эксперимент, чтобы доказать, что письмо может исцелять. Его участники каждый день писали сочинения: одни брались за темы нейтральные, другие описывали свои плохие опыты (преимущественно связанные с сексуальным насилием). Пятнадцать минут четыре дня подряд. Участники второй группы показали лучшую динамику физического и психического здоровья. Хотя в процессе большинство людей признали: им было некомфортно выписывать негативный опыт, сначала становилось совсем плохо. Так началась практика, которую мы теперь называем «экспрессивным письмом». Это не о литературе, а сугубо о терапии, здесь письмо связано с активностью Т-лимфоцитов.
Метод Пеннебейкера на самом деле очень сложный, в нем важен не только пациент, который пишет, и аналитик, который читает, точнее, считает. Частью его метода является подсчет служебных слов — союзов, артиклей, предлогов и т.п. Оказалось, что такие слова чаще будут употреблять выздоравливающие люди. В состоянии аффекта, когда болит, ими пренебрегают. А вот местоимениями, например, злоупотребляют те, кто чувствует опасность, чья целостность под угрозой.
Терапевтическое письмо — игра вдолгую. Сразу облегчение не наступит, никакого катарсиса ждать не стоит. Практики экспрессивного письма настаивают: в историю травмы на письме автор включает перспективы и контексты, дающие возможность связать травматическое событие с другими, сделать его органической частью прошлого, которое влияет на настоящее. Не почему что-то произошло, а зачем это что-то произошло — главный вопрос в построении фабулы, без нее хорошую историю не расскажешь.
А, по моему мнению, самым ошеломляющим результатом опытов Пеннебейкера стало следующее наблюдение. Участники проекта, которые писали не о пережитых непосредственно травматических событиях, а о выдуманных страданиях, размышляли о воображаемых травмах, также демонстрировали улучшение физического здоровья. Преодоление воображаемой боли, которую человек непосредственно не испытал, тоже его исцеляет. И это уже о литературе, а не о терапии.
Вы слышали про криптосвидетельства о геноцидах? Это довольно-таки репрезентативный пласт художественной прозы. Люди пишут как бы мемуары о том, как якобы выжили в Шоа, концлагерях Северной Кореи, во время осады Сараева и т.д., которые потом разоблачают как доброкачественную выдумку. Эти произведения осуждают с морально-этической позиции, но они остаются в литературе уже как романы-в-форме-свидетельств.
Кстати, самый известный сейчас текст об Украине на английском языке — дневники Евы Скалецкой «Ви не знаєте, що таке війна», написанные девочкой во время бомбардировок Харькова весной 2022-го; и, судя по сообщениям и подаче материала, никто из 12-летних детей тот текст не писал. А в свое время был скандал с «Розфарбованим птахом» Ежи Косинского (в переводе Елены Даскал): биографическая история выживания еврейского мальчика в антисемитской общине польских крестьян во времена Второй мировой оказалась авторской выдумкой. «Втеча з табору 14» Блейна Хардена (свежий перевод Александра Красюка): американский репортер записал свидетельство Шин Донг-Хёка, который единственный сбежал из лагеря строгого режима в Северной Корее. Это уникальная история, но другие беглецы обвинили ее в масштабной подтасовке фактов, и Шин извинялся за это. «Серед вовків» Миши Дефонсеки: бельгийка рассказала, как во время Второй мировой скрывалась от нацистов, которые уже арестовали ее родителей-евреев, и спасалась, путешествуя со стаей волков. Со временем оказалось, что Мишин папа сотрудничал с гестапо и ни слова правды в той книге нет.
В этих произведениях природа радикально иная, чем литературные мистификации (и это не хайп как таковой), их источник — не в литературной игре, а в способах избежания травмы. Вместо опыта, который нельзя озвучить прямо, пишется история о страданиях, за которые тебя вознаградят. Привилегия жертвы заслоняет здесь привилегию свидетеля. Реальная история Дефонсеки в разы болезненнее ее выдумки, в ней прячется ребенок гестаповца, который не может принять это «наследство». Книга Дефонсеки, например, неслучайно заметно повлияла на роман Софии Андрухович «Амадока». Героиня с красноречивым именем Романа, о которой на самом деле ничего неизвестно, выдумывает истории о семье мужчины, который потерял память после ранения на фронте и ничего о себе не знает, кроме фантазий Романы.
Терапевтическое письмо в поле литературы — основной и очень наглядный примат формы над содержанием. Читать приходится не так саму историю, как все вокруг нее.
Посмотрим: те немногочисленные на самом деле книги, написанные о COVID-19, имели преимущественно форму Я-романов, дневников или писем без адресатов. Один пример: в самом известном романе о «короне» — «День» Майкла Каннингема — три части: до, во время и после пандемии. Только раздел во время пандемии написан в форме мейлов; герои что-то рассказывают, ответов собеседника нет — полная изоляция субъекта, который говорит. И дело не только в том, что блоги, дневники и долгие разговоры в ZOOM стали во времена пандемии преобладающими формами коммуникации. «Исключая» из текста того, кто слушает, литература о COVID-19 делала сугубо терапевтическое упражнение. Она отказывалась конструировать инакость Другого, вместо этого сосредоточивалась на радикальном нарциссизме Я. Таким образом, литература училась принимать тот факт, что смертельная опасность идет не извне (как во времена глобального терроризма), а изнутри твоего персонального тела. И ты, надевая маску, не можешь обезопасить себя от внешней угрозы, а делаешь это, потому что ты, возможно, заражен — самый большой здесь источник опасности. Такой вид имела на письме вакцина от COVID-19: в литературу вернулся забытый с XVIII века жанр романа-в-письмах.
Терапевтическое письмо может стать лечебным чтением тогда, когда читатель умеет и способен читать содержания, заложенные в самой форме произведения. Предлагаю ли я начать считать артикли и союзы? — Только если у вас есть дополнительное свободное время. Сейчас достаточно обратить внимание на то, сколько раз автор употребил слово «я», не сказав при этом «ты», а следовательно, насколько он встревожен потерей собственной субъектности.
Как тогда произведения, которые пишут, чтобы преодолеть последствия травматического события, могут помочь смягчить боль того, кто читает? Можно описать само травматическое событие, но природа травмы такова, что к описанию не прилагается. Читатель в романах войны, скажем, подключается с неким активным слушанием. Так советуют говорить с малышами. Услышать, что ребенок говорит, и вернуть реплику, в которой назвать эмоцию, переживаемую ребенком. «Да, я вижу, как у тебя болит что-то, чего ты не умеешь прямо назвать», — позиция человека, читающего терапевтические произведения. «Называя твою эмоцию вслух, я не даю ей разрушить уже меня», — это позиция лечебного чтения. Литература в конце концов — способ качественно, но дистанционно переживать опыты, недоступные непосредственно (за то, что некоторые описанные в литературе опыты нам непосредственно недоступны, нужно отдельно поблагодарить).
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2F2c045c91067edc90b2c9364f04b9583f)
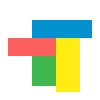
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F87d140b250249d1688d14f4793796f80.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F8%2F38b0885e6adfb089c891ed1ae42ca1e9.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fe017aa140fad0850e67114ee277ae8b3.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F0e3d0b77acbce560d363ede4a258d823.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F0730660c65ea8f3a0f04a7aac70b853b.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2Ff8a524e84de391ec8fb816a338c5727c.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F8%2Fad7d95f49cc8625a20e6cd77a8904322.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F63%2Ffce62172ccbc2426613fe171ddf77ee9.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fab32a001ff11fc1ffffe41e4d58f2888.jpg)