«Я появилась на свет в 1941 году, когда Адольф Гитлер доминировал в Европе, а моя страна находилась под оккупацией. Когда я была еще совсем маленькой, меня вместе с мамой эвакуировали из дома на север Англии, где было безопаснее. Однако мне пришлось уехать от бабушки, которую я очень любила. Эти обстоятельства оставили глубокий след в моей жизни. В нашей семье об этом никогда не говорили, как будто замалчивание могло уменьшить боль. Но, как показывает опыт, то, о чем молчат, наносит еще больший вред.
Отец во время войны служил в летной школе и принимал участие в бомбардировках территории Германии. Многие его друзья погибли, но он никогда не говорил о пережитом. Я помню, как в свои 30 лет ехала с ним в автомобиле по Германии, и он произнес: «Никогда не думал, что увижу Германию снова». Я удивилась: «Что значит снова?». Раньше мама говорила мне, что он просто учил молодых пилотов. Но тогда отец сознался: «Мы вылетали на бомбардировки. Нам это не нравилось, но это был вопрос жизни и смерти». Это был единственный раз, когда он открылся. Прошло более 20 лет после войны, прежде чем он заговорил.
Этот опыт научил меня, насколько важно говорить о пережитом. Замалчивание только углубляет травму. Когда мы приоткрываемся, то учимся справляться со своей болью. Я убеждена, что семьям необходимо находить способы говорить о сложном. Проговоренное становится материалом, с которым можно работать, который можно осмыслить и принять», — так анализирует свое детство и взросление Маргарет Уилкинсон, одна из самых влиятельных психотерапевтов в Европе ХХ века.
У украинского общества уже есть опыт замалчиваемых трагедий, а именно — Голодомор или Вторая мировая война. Сегодня, когда мы снова переживаем войну, особенно важно не только выстоять, но и осмыслить то, что с нами происходит. Взгляды Маргарет Уилкинсон — на силу слова и необходимость говорить о травме — приобретают новый смысл.
Молчание, которое болит, не исчезает
В книге «Как меняется психика во время психотерапии: эмоции, привязанность, травма и нейробиология» Маргарет Уилкинсон исследует, как психологическая травма укореняется в психике и теле. Она подчеркивает: дети, растущие в зоне конфликта, подвергаются сильному психоэмоциональному давлению, которое меняет даже структуру мозга. Уменьшается мозолистое тело, нарушается развитие гипокампа — зоны, ответственной за память и обучение.
В клинической практике Уилкинсон видела, как дети, пережив травму, выражают боль через самоповреждение: «Они могут наносить себе повреждения, вырывать волосы или прибегать к другим способам саморазрушающего поведения. Это их безмолвный крик: «Мне больно, помогите мне». Взрослые должны уметь слушать этот крик и поддерживать ребенка. Но перед этим они должны исследовать собственную боль и переживания».
В книге приведены истории двух пациенток — Оли и Софи. Оли подавляла эмоции из-за стресса в детстве, что повлияло на способность формировать отношения. Софи выражала боль через самоповреждения, создавая свой «язык» для пережитого. Обе нашли путь к исцелению через искусство — альтернативу рассказа, способную передать глубокие, часто невыразимые эмоции.
«Я не заставляла их говорить о наихудшем. Я была рядом и держала эту боль вместе с ними», — подчеркивает Уилкинсон.
Психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и психотерапии Украинского католического университета Ирина Семкив — автор вступительной статьи к украинскому изданию книги. Особую ценность она усматривает в том, что Маргарет Уилкинсон демонстрирует тесную связь между психикой и телом, укореняя психологию в физиологические реалии. Эта связь становится особенно заметной, когда мы говорим о травматическом опыте, в частности в условиях войны. Важно понимать, как именно пережитые события трансформируются или, наоборот, закрепляются в психике — индивидуальной и коллективной.
Как проговоренное становится коллективным опытом, а не травмой
Ирина Семкив отмечает: «Мы не знали, как жить во время войны. Нас никто этому не учил. И теперь мы вынуждены создавать новые модели реагирования. Мы все стали частью общей коллективной травмы».
«Коллективная травма — это совместный опыт большой группы людей, например, нации или громады, столкнувшихся с событием, к которому не были готовы. Такой опыт оставляет след на культуре, идентичности и отношениях. Вместе с тем индивидуальные пережитые травмы — например, прошлое бабушки или дедушки — могут влиять на следующие поколения. Это проявляется в поведении, связанном с замалчиванием пережитых травм, через нерассказанные, но переданные в поступках, равно как и в эмоциях непроработанные фрагменты травматического события. Такой механизм называется трансгенерационной травмой», — объясняет Ирина Семкив.
Что мы делаем с коллективной травмой? По словам Семкив, есть два варианта. Первый — мы не справляемся. Не ословесниваем, не поддерживаем друг друга. И тогда травма передается дальше — как трансгенерационная. Наши дети уже являются ее носителями, а внуки могут унаследовать симптомы ПТСР, даже не пережив само событие. Они бессознательно воссоздают ее последствия — в виде телесных или психоэмоциональных реакций.
Второй — когда мы преодолеваем травму совместными усилиями. Пишем книги и статьи, помогаем военным и переселенцам, обсуждаем пережитое. Так мы коллективно ословесниваем то, что с нами произошло. В этом случае коллективная травма не парализует, а трансформируется — мы становимся другими людьми, с новыми моральными ориентирами, новым пониманием трудностей, четким отношением к врагу и готовностью себя защищать. Наша идентичность меняется.
«Журналисты — это первая линия сбора фактов. Потом приходят деятели искусств — на основе этих фактов они создают художественные произведения, песни, которые уже имеют более мягкие контуры, менее травмирующие, более доступные. А потом ученые, которые анализируют все это. Это своеобразные ступени, по которым мы движемся, чтобы вплести травматическое событие в наше культурное и психологическое поле, сделать его частью идентичности, а не причиной страданий», — анализирует Семкив. И добавляет: «Травма становится частью характера». Не выраженная словами, она проявляется через тело. Поэтому ее называют невыразимой. Важно найти для нее слова. Тогда событие становится частью нашего опыта и памяти, а не живет как текущая угроза. И это главная цель психотерапии.
«Положительная трансформация опыта — образ казачества. От казачества мы имеем не столько трансгенерационную травму, сколько часть нашей идентичности… очень сильный архетип мужчины-воина, который способен бороться и преодолевать. Другое дело — Голодомор. Это опыт, из которого сложно вынести моральную науку. Самая большая мораль — это то, что удалось выжить. И как удалось выжить», — приводит примеры украинская психолог.
От коллективной травмы до личного исцеления
Сегодня украинцы переживают новую волну коллективной и трансгенерационной травм. Анализ «Влияние войны на психологическое состояние граждан Украины», проведенный психологами Филиппом Духлием и Дарьей Трофимовой в 2024 году, позволяет увидеть масштаб психологических изменений в динамике. Филипп Духлий объяснил, что выборка формировалась с учетом надежности: некоторые подгруппы, а именно женщины-военные или те, кто ждет военных, не включались из-за небольшого количества респондентов или необходимости в отдельном подходе. Сбор данных на фронте происходил в два этапа: сначала через бумажные анкеты, затем — онлайн.
Первая волна исследования показала самый высокий уровень психоэмоционального напряжения и симптомов ПТСР среди украинцев за границей. У них двойная нагрузка: с одной стороны, тревога за близких, оставшихся в Украине, с другой — необходимость адаптироваться к новой культурной и социальной среде. Интересно, что у мужчин-военных уровень ПТСР был ниже. Авторы исследования объясняют это возможной адаптацией к боевым условиям и большей подготовленностью к экстремальным ситуациям.
Во второй волне фиксируется рост уровня стресса среди гражданских женщин. Он связан с хронической тревогой, длительным ожиданием новостей с фронта, информационным давлением и неопределенностью.
Третья волна исследования продемонстрировала наихудшие показатели уже среди гражданских мужчин: уровень ПТСР, тревожности и депрессивных симптомов заметно вырос. Такая тенденция может быть связана с продолжительным накоплением психоэмоционального истощения, в частности в условиях экономической нестабильности, потери работы или невозможности выполнять социальную роль.
Психолог Ирина Семкив подчеркивает: одно и то же событие разные люди могут воспринимать по-разному, и оно не обязательно будет травматическим для каждого. Станет ли опыт травматическим, зависит не только от самого события, но и от того, как человек его пережил, какие у него были ресурсы и поддержка в тот момент. То есть смог ли осмыслить событие и адаптироваться.
«Более того, для некоторых людей война стала толчком к внутреннему исцелению. События подобного масштаба часто носят экзистенциональный характер — они заставляют человека переосмыслить жизнь, принять решение, которое годами откладывалось, и действовать. Многие украинцы наконец начали реализовывать свои мечты, менять карьеру, вступать в важные отношения или заканчивать токсичные. Война стала катализатором — или сейчас, или никогда», — говорит Семкив.
Она объясняет, что в начале полномасштабного вторжения украинцы пережили волну коллективного подъема, мобилизации, эмоциональной силы. Это было необходимое ресурсное состояние для начала большого пути. Но такая фаза не может продолжаться бесконечно. Постепенно наступает усталость. И депрессивные состояния — это реакция на истощение, перегрузку, а не признак поражения. Маятник шатнулся от эйфории к истощению. И только признав это движение, мы сможем найти баланс.
«Самая устойчивая позиция — признать собственные границы. Там, где не можем, просить о помощи. Там, где можем, действовать. Именно такая честность с собой и взаимная поддержка могут стать основой психической выносливости в условиях продолжительного стресса и неопределенности. Мы не всесильны, но и не бессильны», — акцентирует украинская психолог.
Опыт войны формирует поколения, и наибольший вызов — это влияние на детей. Ведь они сегодня переживают события, которые будут определять их будущее. И именно взрослые становятся «преобразователями» опыта — или в боль, или в силу.
Как разговаривать с детьми о сложном
По словам Ирины Семкив, у ребенка еще нет достаточных психических инструментов, чтобы самостоятельно справиться с травматическим опытом. Если событие не осмыслить и не проговорить, оно застрянет в теле и оставит след в психике. Незрелые реакции могут закрепиться и проявиться во взрослом возрасте как повышенная тревожность, чрезмерный страх, панические атаки или, наоборот, безрассудный героизм и отрицание опасности. Человек может не помнить само событие, но тело реагирует на триггеры — звук, цвет, ситуацию, которая напоминает прошлое.
«В этом контексте решающее значение имеет эмоциональная стабильность взрослого, находящегося рядом. Дети чрезвычайно чувствительно считывают состояние родителей или опекунов. Если мама, отец, бабушка или другой взрослый сами не осмыслили ситуацию и демонстрируют страх, растерянность или ужас, то именно эти эмоции в первую очередь и перенимает ребенок. Даже если ничего не озвучивать, ребенок интуитивно улавливает напряжение и невысказанные переживания», — убеждает украинская психолог.
По ее словам, речь идет не только о заботе о себе. Изможденный или дезориентированный взрослый уже сам по себе представляет риск. Только взрослый, который смог отрегулировать свои эмоции, может помочь регулировать негативные эмоции ребенку — тогда нужные слова обычно находятся легко.
Семкив добавляет, что особенно опасно оставлять ребенка наедине с травматическим контентом — новостями, видео, фото в соцсетях. Если родители не объясняют, что происходит, или сами не понимают ситуацию, ребенок остается с неосмысленной и неозвученной травмой и со своими фантазиями-реакциями на произошедшее.
«Если же взрослые могут осмыслить событие, объяснить его ребенку, быть для него «эмоциональным контейнером», то риск травмирования существенно снижается. Ключевым является умение родителей передать сложную информацию в безопасной, мягкой форме. И при этом важно быть честным. Ложь не исцеляет травмы», — объясняет она.
По мнению Ирины Семкив, у детской психики есть значительный ресурс для самообновления. Если ребенок много раз возвращается к событиям (в рассказах родителям, родственникам или друзьям), это нормальный процесс интеграции опыта. Это означает, что его психика работает — ребенок готов это обсуждать. Важно, чтобы ребенок сам решал, когда и о чем говорить, — давить нельзя, чтобы не вызвать ретравматизацию. В такие моменты важно просто быть рядом и слушать. Вопросы «Что ты чувствовал?», «Что ты подумал тогда?», «Кто был рядом?» помогают ребенку переосмыслить события и снизить телесное напряжение. Ведь травма живет не только в памяти, но и в теле: сердцебиение, дыхание, потливость — это типичные реакции на стресс.
«Также травматический опыт может приобрести форму истории, сказки, рисунка или образа. Чем больше возможностей у ребенка представить и осмыслить событие, чем больше он может об этом говорить, тем выше вероятность, что это событие интегрируется в его жизненный опыт. И тогда тело не будет страдать в будущем. Это касается и детей, и взрослых. Именно для этого мы и должны говорить о травматических событиях», — резюмирует украинская психолог.
Сегодня каждый украинец несет частичку коллективного опыта, формирующегося в общей памяти. Мы еще в процессе осмысления того, что с нами произошло. Но, как подчеркивают специалисты, говорить — означает признавать реальность, придавать ей форму, трансформировать ее. Для этого важно создавать возможность и пространство для проговаривания, поддержки, переосмысления.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2Ff5fbf8ba04beafb9c75c657701c64841)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2Fb9038c78-fb81-417e-8b39-b4eca0f7b381.jpeg)
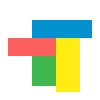
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F26cf954ad69338defe1ba8ab2f1256ca.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F2359af9b38dd39440f2ee11eb4458a4c.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2Ff0a6a56876676a394f3a18b8e01d69fd.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F58328c150f788447cb945d460922789f.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fa27ae11295614201042eb1a050020185.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2Fceee660fb9559c3b75048ac563dadafa.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F69c8006d46fc467810f7e2d1115e5fc8.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F1d1ecf11cc63c7d48447944fa2add991.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F5b19645a6c221b53e42e80cd79ddf17e.jpg)